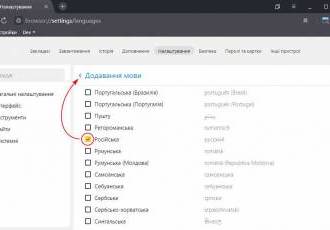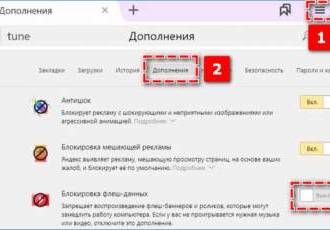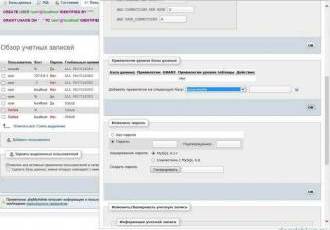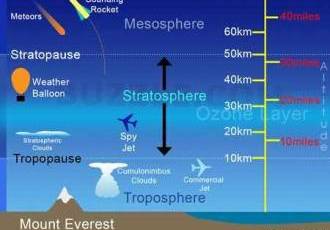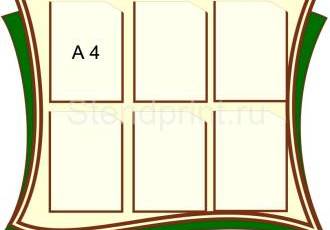Наша речь еще сохранила остатки родового быта, но в нашей памяти от него уже ничего не осталось.
Когда дети у нас называют чужих людей «дядями» и «тетями» или «дедушками» и «бабушками» — это остаток того строя, где все люди в поселке были родичами.
Да и мы сами говорим иной раз вместо «товарищи» — «братцы» и, обращаясь к чужому ребенку, называем его «сынок».
Такие же остатки древнего быта сохранились и в других языках. По-немецки вместо «племянники» говорят: «дети сестры». Это потому, что в старину дети сестры оставались в роде, а дети брата попадали в другой род, в род его жены. Дети сестры были родичами, «племянниками», а дети брата родичами не считались, они принадлежали к чужому роду.
В древнем государстве саков царю наследовал не его сын, а сын сестры.
В Африке еще в прошлом веке было государство Ашанти, царя которого называли «нане» — «мать матерей».
В Средней Азии, в Самарканде, царя называли «афшин», что в древности означало «хозяйка», «госпожа».
Можно было бы еще много привести примеров, говорящих о том, как долго сохранялось в памяти людей воспоминание о материнском роде, где мать была хозяйкой и госпожой.
Видно, род был крепок, если мы о нем так долго помним. Что же его разрушило?
В Америке род был разрушен приходом завоевателей-европейцев. А в Европе — за тысячи лет до открытия Америки — он разрушился сам, как дом, изъеденный жучком-точильником.
Началось дело с того, что мужчина стал все больше и больше забирать в руки хозяйство.
С давних пор женщины вскапывали землю, а мужчины пасли скот. Пока скота было немного, на первом месте был женский, земледельческий труд. Мясо ели редко, молока на всех не хватало. Если бы не женщины и не собранный ими хлеб, в доме нечего было бы есть. Ячменная лепешка или горсть сушеных зерен составляли тогда нередко весь обед. Приправой к хлебу был мед или дикие плоды, собранные опять-таки руками женщины. В доме хозяйничали, а потому и заправляли всем женщины.
Но так было не всегда и не везде. В степной полосе хлеб родился плохо. Степные травы не хотели уступать место хлебу. Крепко держались они всеми своими корнями за землю. И когда мотыга врезалась в землю, она встречала не мягкую почву, а крепкий дерн, целину, которую не так-то легко было разбить.
В мотыгу впрягались три или четыре женщины. И все-таки мотыга только царапала землю.
Семена, брошенные в неглубоко вспаханную почву, сушило солнце, клевали птицы. Хлеб поднимался скудный, редкий. А тут еще засуха вела по-своему в поле отбор: сжигала хлеб, оставляла в живых привычные ко всему сорные травы.
И когда приходило время жатвы, оказывалось, что и жать-то нечего. Колосьев не было видно среди сорняков. Степные травы опять колыхались по ветру, как знамена вражеского войска, которое было изгнано и вновь вернулось.
Сорная трава вместо хлеба! Стоило ли для этого гнуть спину, напрягать руки?!
Но что сорная трава для людей, то хлеб для скота. Сытно жилось в степи коровам и овцам! Везде для них была скатерть-самобранка.
С каждым годом стадо делалось все больше. Засунув кинжал за пояс, мужчина шел за стадом. Верный друг пастуха — собака помогала ему собирать в кучу овец, не давать им разбредаться по степи. Стадо росло и множилось, давая все больше молока, мяса, шерсти.
В доме не хватало хлеба, но вдоволь было овечьего сыра и в котлах кипела похлебка из баранины.
Труд мужчины, труд пастуха, стал выходить в степном крае на первое место.
Но скоро мужчина оттеснил женщину и в северных лесах.
В Швеции нашли на скале древний рисунок, изображающий пахаря. Рисунок сделан грубо и неумело. Пахарь похож на тех человечков, которых рисуют маленькие дети. Но нам неважно, хорошо или плохо сделан рисунок. Для нас это не рисунок, а свидетель. И этот свидетель ясно показывает, что пахарь идет за сохой, а соху тянут волы.
Это, пожалуй, первая соха в истории человечества Она еще очень похожа на мотыгу. Разница только в том, что к ней приделана длинная жердь — вроде дышла, и это дышло тащат не люди, а быки.
Человек нашел первый двигатель! Ведь вол, запряженный в плуг,— это живой двигатель, живой предок нашего трактора, сделанного из металла. Надев на плечи быка ярмо, человек взвалил на быка и свою работу. Скот, который давал раньше только мясо, молоко, кожу, стал отдавать человеку и свою силу.
По полям пошли медлительные, сильные волы с деревянным ярмом на плечах, потянули за собой соху. Соха глубже врезалась в почву, чем мотыга. Черной лентой легла вслед за ней поднятая земля.
Первый пахарь налег изо всей силы на рукоять сохи.
Пришлось теперь волу поработать во всю воловью силу. Его заставили и пахать, и молотить, и возить хлеб. Осенью вола гоняли на току, и он вымолачивал ногами зерно из колосьев. А потом его впрягали в тяжелую повозку без колес, в «волокушу», и он тащил домой с поля мешки с зерном.
Скотоводство пришло на помощь земледелию. Мужчина-пастух стал также и пахарем. А это дало ему больше власти в доме.
Правда, немало работы осталось и на долю женщины. Ей приходилось и ткать, и прясть, и хлеб убирать, и за детьми смотреть.
Но прежнего почета уже не было. И на пастбище и в поле первое место занял мужчина.
Реже стали покрикивать дома на мужей. А мужья стали чаще переходить от обороны к наступлению. Раньше, бывало, тещам, теткам и бабушкам ничего не значило выжить из дому чужого. Теперь за ним стали ухаживать. Ведь этот пришелец из чужого рода работал на всех, кормил род. Да и со своими мужчинами род стал расставаться неохотно.
Чтобы добиться господствующего положения в общине, мужчины заключают между собой военные союзы.
Прежде наследство после смерти человека переходило к детям его сестры. Теперь мужчины стараются изменить этот обычай.
У африканских кочевников — туарегов — все наследство делится на «правое» и «неправое». «Правое» наследство достается детям сестры: это то, что получено умершим от его матери и добыто трудом в хозяйстве. А «неправое» наследство — это военная добыча и все, что нажито торговлей. Оно переходит к детям умершего.
Сколько тысячелетий существовал материнский род!
И вот затрещал старый порядок, как дуб, доживший до глубокой старости.
Все чаще и чаще стали люди нарушать обычаи. Прежде жена брала в дом мужа, теперь муж стал брать в дом жену.
Это было нарушением старого обычая. И потому на нарушителя смотрели как на преступника.
Жених не мог просто увести к себе невесту, ему приходилось красть ее, похищать.
Темной ночью жених и его родичи, вооруженные копьями и кинжалами, подкрадывались к дому, где жила девушка, на которой род жениха остановил выбор. Лай собак будил все население дома. Брались за оружие и седые деды, и безусые братья невесты. Грозные крики сражающихся заглушали плач женщин. Жених отступал под прикрытием единоплеменников, неся на руках бьющуюся добычу — невесту.
Шли годы. Нарушение обычая понемногу само становилось обычаем. Схватка жениха с родичами невесты превратилась в обряд.
Кровопролитие заменилось дарами, выкупом. Даже плач, которым провожали невесту ее мать и сестры-подружки, и тот превратился в свадебное представление. И это представление кончалось пиром.
До сих пор еще в памяти людей сохранились старинные заунывные песни, в которых молодая, попавшая в чужой род, в чужой дом, оплакивала свою долю.
Незавидна была эта доля. В чужом доме женщина попадала под власть мужа. Пожаловаться было некому: ведь и свекор, и свекровь, и все родичи мужа были на его стороне. Взяв в дом женщину-работницу, все зорко следили за тем, чтобы она не сидела сложа руки, чтобы она не брала в рот лишнего куска. Материнский род превратился в отцовский.
Теперь уже дети оставались не с матерью, а с отцом, с отцовским родом. И счет родства стали вести по отцу, а не по матери. К собственному имени человека и к его родовому имени начали добавлять: «сын такого-то».
От этого времени остался у нас обычай величать человека по отцу, по отчеству: «Петр Иванович» или, как говорили в старину, «Петр Иванов сын».
Никому и в голову не придет добавить к имени человека имя его матери: «Петр Екатеринович» или «Марья Татья-новна».